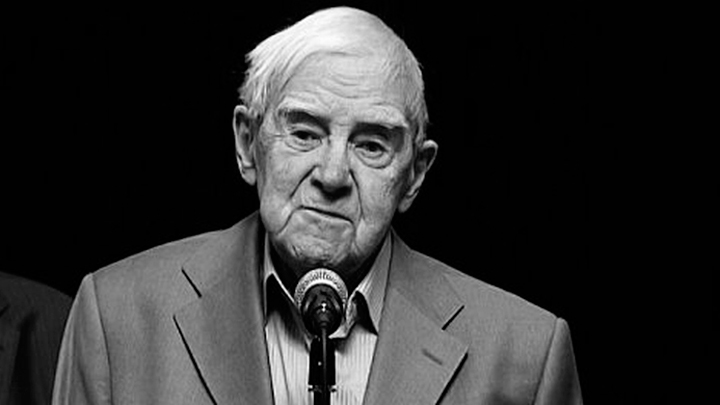«На войну мы пошли безоружными в буквальном и в духовном смысле»
— В первые годы после победы рассказывать о том, как мы встретили войну и как вели ее в 1941 году, не разрешала цензура. Да и сами мы больше хотели рассказывать про наступление. Про то, как вошли в Берлин. А то, как мы начали войну, какие были колоссальные потери, как мы отступали, драпали, сдавали город за городом — об этом не хотелось. Это было самое трагическое время — начало войны. В июле 1941 года, когда наш эшелон ехал на фронт, все распевали песни. Мы были счастливы, что попали в ополчение. У меня была броня, я работал в конструкторском бюро, где конструировали танки. И я добился с трудом, чтобы меня зачислили в народное ополчение. Мне казалось: как так? Война! И я не буду участвовать в ней?! Это — непередаваемое ощущение… Сейчас смотришь на это, как на какую-то глуповатость, простодушие. А тогда было искреннее чувство: мы повоюем, победим и вернемся. Даже, прощаясь с родными, мы успокаивали их искренне: ну месяц-два, и всё будет в порядке…
— Это была вера в себя или в страну?
— И общее настроение, и личная уверенность в том, что скоро вернемся с победой. Мы ничего не знали про войну. Это психология 1941 года — все неизвестно. Знали, что победим, такое ощущение было, но как? Когда? Было и другое чувство. Оно мучило нас в первые месяцы войны. Только что Сталин целовался и выпивал с Риббентропом. Германию называл «нашим другом». Мы ехали на войну, не вооруженные злостью. В нас крепло чувство недоумения и оскорбления: как же так — они безо всякого предупреждения на нас напали. Сталин говорил, что на их стороне внезапность. А разве они должны были предупреждать? Никто не задавался этим вопросом. Не только наши политические деятели были одурачены, обмануты немцами и попали в эту ловушку, но и мы тоже — пошли безоружными в буквальном и в духовном смысле.
«Потребовалось несколько месяцев, чтобы мы набрались злости»
Когда к нам в плен попал первый немецкий летчик (его самолет был подбит, он приземлился на парашюте прямо в расположение наших войск), то с нами разговаривал свысока, как с низшей расой, с превосходством арийца и военного человека. Он предвещал: «Вы обречены». А мы этому немцу старались напомнить: Тельман, Карл Либкнехт, «пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ведь это было повсюду, во всех газетах. И потребовалось несколько месяцев, чтобы мы набрались ненависти, злости. Во всяком случае — избавились от дружеских чувств и отношений.
— Откуда набирались ненависти?
— От немецких солдат. Они, наступая, оставляли за собой выжженные деревни, разбитые города, виселицы. Но самое главное — за что? Почему? Какой лозунг войны у них был? Какая причина? Мы ничего не понимали. Словно ты идешь по улице и вдруг тебе дают по морде и кричат: «Мы тебя уничтожим». Ведь эта война была не для того, чтобы захватить какие-то земли. Нет. Они шли на Москву, чтобы уничтожить Россию. Уничтожить Ленинград. Гитлер прямо сказал: «Сровнять его с землей». Начало войны, первые месяцы были очень тяжелыми. Мы высадились на станции Батецкая, не успели сойти с эшелона, нас уже бомбили. Это в порядке вещей — бомбили нас и потом. Но откуда они узнали? Нам политруки говорили: шпионы, предатели сообщили им, что наш эшелон едет, и когда, и где он высадится. Один из наших бойцов (у нас же все были люди — не военные, умные, образованные — с Кировского завода, с ленинградского морского порта, из института культуры, из дворца культуры Дзержинского) сказал политруку:
«Товарищ комиссар, ведь мы всех шпионов и вредителей уничтожили. Откуда они опять взялись?»
И действительно, ведь репрессии 1937 года, казалось, должны были избавить страну от этого зла. А оно опять есть! Сейчас это звучит почти анекдотически. А тогда было непонятно.
«Для бегства и паники оружие — в тягость»
— В первый год войны было очень много непонятного. Не могли винтовок нам напастись — не хватало их. Мне не досталось винтовки. Нам дали бутылки с зажигательной смесью. А где же наше оружие всё? Где наши самолеты? Почему немцы нас бомбят, а никакой защиты вроде истребителей на нашем участке фронта нет? Всё время возникало недоумение: а где всё? Ноги были в обмотках. А где сапоги? Нам выдали кавалерийские галифе. А где же нормальное обмундирование? Хотя бы б/у? Совершенно неожиданно вдруг обнажилась полная неготовность нашей армии к войне. Не было даже топографических карт. Это обескураживало. У нас же были военные парады. Мы распевали песни о том, какие у нас Ворошилов, Буденный: «Никто пути пройденного у нас не отберет, Красная дивизия, вперед, вперед, вперед…»
Разочарование в том, что мы оказались не готовы к войне, нарастало. В том, что Сталина немцы обвели вокруг пальца. Об этом даже подумать сначала было страшно: сам Сталин не понимал, что нас обманывали. Мы были не готовы к настоящей войне. Не ожидали, что немцы превосходят нас и по вооружению, и по связи, и по обеспечению. У них всё было подготовлено, а у нас ничего. Мы бежали. Это унизительное чувство. Это паническое чувство.
Надо было прийти в себя. Но для того, чтобы прийти в себя, требовалось время. А мы искали какого-то самооправдания. И пока искали, в сентябре 1941 года немцы были уже под Ленинградом. Иногда они наступали со скоростью 80 км в день! Что это за война? Это — бегство. Уже за Лугой где-то (мы успели ее пройти в начале войны, пока ещё не было прямого соприкосновения с противником) мы окопались, готовясь к встрече с немцами. А сквозь участок нашего фронта отступала Красная армия, и это нам помогло довооружиться. Они отдавали нам свои винтовки, пулеметы, ручные, гранаты, и, конечно, просили что-то взамен. Мы отдавали то, что взяли с собой на войну: мыло, сахар, папиросы… У кого-то были конфеты, у кого-то сухари хорошего качества, шпроты (ими нас всех обеспечивали). Себе мы оставляли только бритвы и тёплые портянки.
— А у отступающих красноармейцев ничего не было, они шли домой голодные?
— Только винтовки. Они были измучены. Были большие потери. И у них была психология отступающих, которым уже не нужно оружие. Для бегства и паники оружие — в тягость. Оно только мешает. Немцы подошли вплотную. 17 сентября, когда мы уходили из Пушкина, я не увидел никакого второго эшелона. Оборона рухнула.
«Начинаешь понимать, что все-таки и немца можно убить…»
— Есть сторона войны, которая раскрывается только спустя годы и которой историкам трудно пользоваться. Война, которую я пережил, не связана с документами. Она и событийно тоже — не бог весть что. Но она относится к пониманию чуда. Это история солдатского братства. Это то, как менялось настроение солдат. Это — кардиограмма, которая выстраивалась четыре года. Она всё время разная: вначале — бравада, потом — надежда, затем — разочарование, отчаяние, ощущение катастрофы, дальше — какой-то опыт и новый перелом: начинаешь понимать, что все-таки и немца можно убить. Эту кардиограмму очень сложно прочертить, хотя именно она решала и решила исход войны. Война была несколько раз проиграна, что порождало чувство безнадежности. Но каждый раз это чувство исчезало, и вновь появлялось то, что Пушкин называл «остервенением». Непонятно, как мы выиграли войну. Были такие безнадежные состояния, что даже вспоминать о них долгие годы было страшно.
Очень большую роль сыграло для нас то, что немцы не сумели взять Москву, не смогли войти в нее, а в сентябре 1941 года уже остановились у Ленинграда. Более того — они не только остановились, а были вынуждены начать отступление. Это был первый ощутимый успех, и он стал психологическим переломом. Осознание того, что они могут отступать — это одно. А другое — мы можем наступать. Это — история солдатского сопротивления. История войны — не только сражения и потери, это еще и история о том, как менялась солдатская психология. Она менялась до самой победы. Когда мы вошли в восточную Пруссию, совершенно другая война началась. Абсолютный перелом. Разочарование в наших союзниках, которые столько времени не открывали Второй фронт.
Эта часть военной истории плохо отражена, она историкам недоступна, это — только солдатские и генеральские воспоминания. Кстати, и в их воспоминаниях нет обречённости, паники, осознания того, что Россия гибнет. Как так — Россия гибнет?! Жукову не давали в воспоминаниях написать, что был момент, когда реально появилась опасность, что Москву не удастся отстоять. Не дали написать. Но Симонов его спросил: «А было у вас такое ощущение?» Жуков мог охватить положение всего фронта, мы-то не могли, у нас только солдатская, окопная психология, знание очень маленького участка. Он сказал: «Да, был момент, когда это было возможно». Историки долго не могли смириться с этим, а цензура — тем более. Но для писателя это — самое важное. Писатель пишет, опираясь не на документы, а на психологию людей, на психологию воина, на то, как она меняется.
«Это сложный вопрос, но поднимали боевой дух и панфиловцы, и Матросов»
Никто не мог предсказать, что война продлится четыре года — ни военачальники, ни офицеры, ни рядовые. Если бы мне сказали, когда я добивался зачисления в армию: «Ты вернёшься, если выживешь через четыре года», я бы не поверил или не стал бы записываться в народное ополчение. Рассказывать про это в литературе после войны было стыдно. И цензура не разрешала. Цензура глушила это разочарование. Эта часть истории Великой Отечественной войны почти не была раскрыта. Не давали о ней рассказывать. Были какие-то две вещи в журналах про отступление, случайно проскочили, и больше ничего. А, между тем, хорошие писатели послевоенного времени понимали, что именно через это можно понять победу, ее величие. После войны был удивительный всплеск литературы о войне. Замечательные писатели создали эту антологию: Василь Быков, Виктор Астафьев, Виктор Некрасов, Давид Самойлов… Прекрасный памятник нашей победе. Вся эта литература существует, имея фундамент правды. Гораздо труднее выстоять тем произведениям, где есть только победные марши.
— А то, что многие годы цензура не давала говорить правду, скрывала неприятные моменты — наши поражения, безоружность, было ли правильно так повышать патриотизм в людях? Те, кто не знал реального положения дел, наверное, по-прежнему верили, что Сталин — гениальный полководец?
— Это сложный вопрос. Например, подвиг панфиловцев… Сейчас я знаю, что он преувеличен, но тогда это помогало. Или подвиг Матросова — то, как его изображали, это было невозможно. Невозможно прикрыть собой крупнокалиберные дзотовские пулемёты, мгновенно ты падаешь, мгновенно, это нельзя заткнуть каким-то кляпом. Ещё был такой лозунг: «грудью отстоим». А грудью ничего не сделаешь. Но я помню, что помогали, поднимали боевой дух и панфиловцы, и Матросов. Хотя были и действительные вещи — подвиг Гастелло, который свой подбитый самолёт направил на вражескую колонну. Это действительно было. И дальше по ходу войны какие-то подвиги, которые помогали душевно, и даже не хотелось вдаваться в подробности: насколько это реально, каков процент правды тут? Такие вещи на войне много значили. Поэтому отношение к ним достаточно сложное.
Какие-то преувеличения сразу обнажались. В сводках Информбюро, которое всегда старалось показать какие-то очень мелкие частные победы. Хотя на фоне нашего отступления было ясно, что это — бравада. Но так в любой войне всегда: поражения хотят представить как тактический маневр. Были моменты, когда мы сразу понимали: это — чистая пропаганда. Сталин выступил еще в начале войны, в 1941 году, и сказал, сколько миллионов немцев мы разгромили, убили. Он такую огромную цифру назвал, что мы не поняли: а почему они еще перед нами стоят?!
— А если бы вам говорили всю правду про то, что мы не были готовы, нет оружия, не хватает средств, сил?
— Это было бы очень тяжело. А что комиссары могли говорить? Они только и твердили: все равно у немцев ничего не получится, мы — огромная страна, мы победили в 1812 году, у нас был Суворов, Дмитрий Донской и т.д. Надо было соорудить не только надежду, но и веру в дальнейший успех, а его не хватало все время. Мы переживали месяц за месяцем отступление, панику.
«Фюрер считал: если Ленинград будет завоеван — рухнет сопротивление»
— Впервые задержались в Луге, у реки, там мы сумели наладить оборону и отстояли этот участок, и это большую роль сыграло для Ленинграда. И то, что мы отстояли Пулковские высоты. На мою войну наложилась еще трагедия блокады. На Ленинградском фронте нам добавилась трагедия гражданского населения. На других фронтах это меньше чувствовалось. Тоже было, конечно, ужасно, но Ленинграду досталось сильнее всех.
— Правда ли, что Исаакиевский собор и некоторые другие петербургские памятники и здания во время войны были для горожан символами, которые укрепляли дух?
— Да, это так. Когда укрыли купол Исаакия сверху, надели на него чехол, он словно облачился в военную форму, тоже стал как воин, защитник Ленинграда. Когда мы заняли оборону и начались эти 900 дней блокады, если бы за нами был один из наших обычных городов, нам было бы гораздо труднее. Но за нами был Ленинград, который сам по себе символ. Мы в бинокли видели в городе пожары, столбы дыма, поднимающиеся от фашистских бомбежек, и сердце щемило ужасно. Потому что это горел не просто город, это горела гордость России. Город, связанный с именем Петра Великого, с декабристами, с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Достоевским… Они все участвовали в обороне Ленинграда. Всё то, что было со школьных лет, весь этот венец на челе города, с которым каждый русский человек рос. Потому что это был концентрат российской истории, литературы, науки. Истории всех заслуг России, победной, красивой.
— Ленинград в этой войне был более важным городом, чем Москва?
— Для Гитлера еще раньше, чем для нас. Он считал, что корни большевизма в Ленинграде и наметил его по плану «Барбаросса» самым важным объектом наступления. Фюрер считал: если Ленинград будет завоеван — рухнет сопротивление. Были два важнейших очага сопротивления в истории Великой Отечественной войны: Сталинград и Ленинград. Сталинград — это военное сопротивление, а Ленинград — духовное. Стойкость и армии, и населения. Тогда мы не знали, а после войны выяснилось, что Ленинград вдохновлял солдат на других фронтах страны. Понимание того, что люди насмерть стоят, несмотря на голод, который скрывали, лишения, потери. 900 дней! Ни один город в истории Второй мировой войны не выдержал столько окружений! Такие вещи, конечно, помогали.
— Недавно были названы новые цифры потерь СССР во Второй мировой войне — 41 миллион 979 тысяч человек. Что вы о них думаете?
— Меня потрясла эта цифра. История этой цифры — тоже характерная. Мы ее боимся. Боялись, во всяком случае. Мы все время уступали правде: 7 млн, 15 млн, 22 млн, 27 млн, 30 млн… И вот мы подошли к 42 млн, и я не знаю, уперлись мы в эту цифру или нет? Эта война отличается тем, что она сопровождалась сознательной ложью. Ложь считалась — как теперь выяснилось — необходимостью от разочарования, огорчения. Почему? Мы чувствовали, что потери войны — гораздо больше. Но, мне кажется, сейчас наступил момент, когда можно говорить достаточно откровенно, не боясь никого огорчить: ни народ, ни начальников. Эта цифра требует другого подхода, другого осмысления.
Начался подсчет с 7 млн и дошел до 42-х. Постепенно. Десятилетие за десятилетием. У Сталина — одно, у Хрущева — другое, у Брежнева — третье, у Ельцина — четвертое. Каждый новый правитель то множко, то немножко прибавлял. И вдруг сейчас открылась цифра ужасающая. Но и это — не всё. Мы не считаем инвалидов, вдов, сирот, безотцовщины. Еще нищету, бедность, разруху, которые преодолевались десятилетиями. Это всё от войны. До сих пор что-то остается. Что такое — 42 млн? Это не цифра. Для тех, кто остался в живых, — это одиночество. Мне годовщину победы встречать не с кем. У меня никого не осталось от моих школьных и студенческих друзей, от моих однополчан. Не только в силу естественной убыли, но и потому, что они погибли на войне. Это погибла часть моей юности, моей жизни, она ушла вместе с ними.
Был факт, который всех нас поразил. Сталин ни разу не произнес (может быть, где-то произнес, в частных разговорах) какого-то тоста — «царствие небесное», «спасибо тем, кто отдал свою жизнь, погиб» — в память о погибших. Ведь он-то знал, что их не 7 миллионов. Может быть, он полной цифры не знал. Но знал, что гораздо больше. И на приеме после победы он не произнес ничего о них. Не помянул. Не выпил. Не было тоста. Это непростительно. Мы потеряли самую лучшую часть народа. Это она шла в атаку. Она работала в тылу, партизанила. Остальные сидели в конторах. Жили в провинции. Или занимались тем, что шили нам шинели и гимнастерки. Я не упрекаю их. Никто не виноват в этом из тех, кто не воевал. Но и солдаты ни в чем не виноваты. Виноваты те, кто не верили, что мы можем не победить… Мы должны выиграть: «Красная армия всех сильней…» И результат — такие страшные потери.
«Нам тоже должна была достаться женщина, но одна — на двоих. Потому что женщин приезжало всего человек тридцать, а нас — целый батальон!»
— Мы до сих пор имеем испорченный генетический код. Блокада не прошла даром для ленинградцев. Это несчастье до сих пор передается по наследству. Больные люди, блокадный голод, страшные ужасы. Обессиленные женщины. Расскажу личную историю. Наш батальон стоял возле Ленинграда — под Шушарами. Однажды комиссар нам сказал, что завтра «приедут шефы», а с ними — работницы с фабрики. Для нас это было событие. Мы стояли на самом рубеже. Они должны были ночью прийти и ночью же уйти, потому что мы стояли на таком приближении, что их не должно было быть видно, чтобы ни их, ни нас не обстреляли. Нас заранее предупредили о визите, чтобы мы не ели кашу, сахар, хлеб и могли угостить.
Я жил в землянке вдвоем с товарищем — артиллерийским техником. И нам тоже должна была достаться женщина (фабрика была женская, мужчин не было), но одна — на двоих. Потому что женщин приезжало всего человек тридцать, а нас — целый батальон! Мы с соседом бросили жребий. Я выиграл. Мне досталась женщина. Молодая сравнительно, но такая уже костлявая. Я ей устроил угощение. Отдал две порции, потому что мой сосед оставил мне свою. Сидим мы с ней, разговариваем. Гостья мне рассказывает, что на фабрике творится. А потом я вижу: она от еды засыпает. Я говорю ей: «Ну, ложись, поспи, а то тебе еще ночью пешком идти до дома». Она легла и говорит мне: «Ложись со мной». Я обрадовался, хотя вид у нее был не для любви. Но я лег, и она тут же заснула. И я лежал, согревал ее, потом тихонько встал и пошел в соседнюю землянку, где спали ребята, которым женщин не досталось.
— Вы все эти годы об этом помните? Это такие сильные чувства вызвало?
— История имеет продолжение. Дело было так. Когда уже война закончилась, вдруг эта женщина звонит мне по телефону и говорит: «Вы помните?» А я помню! Это событие было. Я спрашиваю: «Откуда ты узнала мой телефон?» Она отвечает: «Директор нашей фабрики встретилась на каком-то юбилее с командиром вашего батальона, они начали вспоминать, и потом директор на фабрике рассказала о встрече». И эта девочка, хотя она была уже совсем не девочка, выждала, подошла к директору и рассказала нашу историю. Та спросила: хочешь — давай, узнаем его телефон, он жив или нет? И она позвонила комбату. А мы с ним дружили и встречались. Он дал мой телефон. Мы встретились с ней. Она была уже отъевшаяся (смеется), замужем, дети. И я был уже женат. Но мы с ней хорошо посидели.
— Что для вас самое больное сегодня, когда вы думаете о войне?
— Победу у нас похитили. У меня был разговор с Гельмутом Шмидтом (пятый канцлер ФРГ — Ред.). Я его спросил: «Почему вы проиграли войну?» Он мне сразу ответил (у него был готов продуманный ответ, он хороший политик, профессиональный историк, сам воевал, все видел, все знает): «Потому что США вступили в войну». А Америка вступила поздно. Черчилль сказал еще в конце 1941 года: «Прилив кончился, начался отлив». Я не мог понять, откуда взялась эта версия. А потом понял: проиграть Америке — гораздо более лестно, чем нищему босому СССР. И американская пропаганда подхватила это. И сейчас это проникло на Западе повсюду, вплоть до школьной истории. А это несправедливо, неприлично. Нам обязано человечество этой победой, разгромом фашизма. Конечно, история восстановится, но гораздо позже. А несколько поколений будут жить и уже живут с такой историей.
«Даниил Александрович, а сколько человек вы убили?»
— Да, я спросил у Гельмута Шмидта «почему они проиграли», но есть и второй вопрос: «Почему мы выиграли»? Для меня в нем тоже много неясного. Как-то в школе меня упросили поговорить о войне с детьми. И вдруг встает одна девочка лет восьми и спрашивает: «Даниил Александрович, а сколько человек вы убили?» И я понял, что они совершенно иначе видят эту войну сегодня. Что есть еще и такая сторона войны: «а сколько вы убили человек»? Не немцев, не противников, а — человек. Понимаешь? Сколько вы убили человек? Я ответил: «Я убивал противников».
Из: Новая газета